



В темных образах. Маленькая смерть. Минус 16
Новая комбинация одноактных балетов - 4 и 5 мая
01






Новая комбинация одноактных балетов - 4 и 5 мая





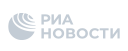

Приобретая билет я соглашаюсь с правилами проведения мероприятия
В соответствии c Указом Мэра Москвы № 62-УМ от 21 октября 2021 года при посещении мероприятий театра посетитель обязан одновременно с билетом предъявить работникам театра, обеспечивающим контроль прохода, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ (паспорт) и ОДИН ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ QR-кодов (источник gosuslugi.ru, mos.ru):
QR-код не требуется зрителям в возрасте до 18 лет в сопровождении взрослого c QR-кодом!
QR-код может быть предъявлен в распечатанном виде либо на экране смартфона.
Для зрителей с любыми другими QR-кодами, не зарегистрированными на сайте www.gosuslugi.ru или www.mos.ru, проход в театр невозможен.
Напоминаем о мерах безопасности: при посещении театра наличие маски ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ваше сообщение успешно отправлено, мы свяжемся с вами в ближайшее время.
У нас впереди много всего интересного и познавательного, будем на связи!



